МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МАГНЕТИЗМ И КАТАЛИЗ
Государственная премия Российской Федерации в области науки и
техники за 2002 г. присуждена большому творческому коллективу, в
составе которого единственный представитель Сибирского
отделения — ведущий научный сотрудник Института неорганической химии
СО РАН, доктор химических наук Владимир Икорский, за работу
«Полиядерные соединения: молекулярные магнетики и катализ».
Наш корреспондент Людмила Юдина побеседовала с Владимиром
Николаевичем (он теперь ведущий научный сотрудник Международного
томографического центра СО РАН, в ИНХе — совместитель) о
достоинствах проведенных исследований.
— Работа, удостоенная столь высокой научной награды России,
использует механизм такого явления, как молекулярный магнетизм.
Как давно известно о его существовании? В чем здесь принцип?
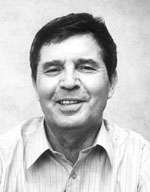 |
|
— Предыстория наук о магнетизме начинается с открытия в Древнем
Китае магнитных свойств железных руд. Собственно говоря, в те
далекие времена китайцы изобрели магнитный компас — указатель
направления на север. История же молекулярного магнетизма очень
короткая — всего каких-нибудь 170 лет прошло со времени открытия
резкого различия магнитных свойств кислорода и азота — основных
компонентов нашей атмосферы. Первооткрывателем молекулярного
магнетизма можно считать Майкла Фарадея, одного из величайших
гениев науки 19 века. Чтобы было понятно неискушенному в этих
проблемах читателю, определим молекулярный магнетизм, как
физическое явление, характеризующее магнитные свойства молекул — микроскопических
объектов. При объединении множества этих молекул
в ансамбль — макрообъект, возможно возникновение качественно
нового магнетизма за счет кооперативных межмолекулярных
взаимодействий. Ниже определенных температур магнитные моменты
отдельных молекул макрообъекта могут выстраиваться в определенный
порядок. Такое вещество называется магнетиком. Главное, что
следует иметь в виду, — отдельные молекулы выступают в качестве
строительных блоков магнетика.
— Но как реально можно обнаружить магнитные свойства у молекул
кислорода?
— Собственно говоря, величайшая заслуга М. Фарадея именно в
создании метода измерения магнитных свойств, который так и
называется — «метод Фарадея». Важно отметить, что он является
одним из основных экспериментальных методов до настоящего
времени. Идея этого метода состоит в том, что вес изучаемого
материала может зависеть от приложенного магнитного поля. Если
полюсам постоянного магнита придать конусообразную форму, то
магнитные материалы будут сильно втягиваться в направлении
вершины конуса, поскольку именно здесь магнитное поле
максимально. Немагнитные материалы, так называемые диамагнетики,
наоборот, выталкиваются из такого магнита. В результате можно
очень точно определить, какие вещества и насколько сильно
«втягиваются» или «выталкиваются» из магнита, и какова их
магнитная восприимчивость. Как раз Фарадей и обнаружил, что
кислород «втягивается» в магнитное поле, но намного слабее по
сравнению с железом. Такие «слабые» магнетики называются
«парамагнетиками». Азот же, наоборот, выталкивался из магнитного
поля, и это его свойство было названо «диамагнетизмом».
— Кислород — важнейший фактор жизни на Земле, это ясно. Но
насколько существенен тот факт, что кислород — парамагнетик,
тогда как азот — диамагнетик? Играет ли это определяющую роль?
— Можно сказать — и да, и нет. Природа парамагнетизма кислорода
выяснена только в 30-х годах XX века после открытия спинового
парамагнетизма электронов. У азота электронные спины спарены,
тогда как у кислорода — нет. Отсюда можно было бы предположить,
что с этим фактом связаны окислительные свойства кислорода. Но у
фтора (соседа кислорода по таблице Менделеева) все спины спарены,
как и у азота, а химическая активность фтора выше, чем у
кислорода.
— В чем суть работы, отмеченной Государственной премией?
— Прежде всего, хочу сказать, что работа представлена
высококвалифицированным коллективом, объединяющим несколько
научных школ, как химиков-синтетиков, так и физиков: академик
В. Лунин, декан химфака МГУ; профессор, д.х.н. П. Чернавский, химфак
МГУ; профессор, д.х.н. М. Варгафтик, зав.сектором Института
общей и неорганической химии РАН; член-корр. РАН И. Еременко,
зав. лабораторией ИОНХ РАН; академик И. Моисеев, зав.
лабораторией ИОНХ РАН; член-корр. РАН В. Новоторцев, зам.
директора ИОНХ РАН; профессор, д.х.н. Ю. Ракитин, главный научный
сотрудник Института химии и технологии редких элементов и
минерального сырья им. И. В. Тананаева, Кольский НЦ РАН. Сибирская
часть работы выполнена в Институте неорганической химии в
сотрудничестве с Международным томографическим центром СО РАН.
Теперь о главном. По сравнению с молекулами кислорода и азота, о
которых я упоминал, современные полиядерные соединения намного
сложнее как по своему составу, так и строению. Интерес к таким
молекулярным системам связан не только с фундаментальными
проблемами химии и магнетизма, но, главным образом, с прикладными
вопросами — поиском новых материалов, в том числе магнитных на
основе новой элементной базы. Отмечу, что кластерные, полиядерные
соединения металлов являются также важным классом для гомогенного
катализа. Как известно, для каталитических реакций существенны
конфигурации орбит электронов и расщепления энергетических
уровней иона катализатора в процессе каталитической реакции.
Безусловно, всесторонние исследования магнитных свойств на уровне
отдельных молекул или ограниченной совокупности молекул при
варьировании окружающих лигандов вместе с квантовомеханическими
расчетами дают ценную информацию для химиков-синтетиков и для
тех, кто занимается проблемами катализа.
— Работа, хотя просматриваются и прикладные выходы, носит
фундаментальный характер?
— Мы исследовали молекулярные соединения на основе полиядерных
комплексов переходных металлов с органическими лигандами, включая
органические стабильные радикалы. По данной проблеме получен
огромный массив экспериментальных данных. Но в настоящее время
этого недостаточно. Необходимо также развитие теории, объясняющей
эти экспериментальные факты и основанной на современных методах
квантовомеханических расчетов. Иначе говоря — объединение усилий
как химиков-синтетиков, так и физиков. Созданная одним из авторов
модель обменных каналов впервые позволила выявить природу
вариации параметров магнитных взаимодействий в рядах
изоструктурных соединений разных металлов и с высокой точностью
предсказывать значения этих параметров, ввести магнетохимический
критерий энергии связи металл-металл. На основе
теоретико-группового анализа структуры энергетических уровней
полиядерных молекул были созданы методы и модели, которые дают
возможность получать простые — вплоть до аналитических — выражения
для энергии магнитных уровней молекул с произвольным
числом ионов металла. Обобщенная модель углового перекрывания с
учетом мостиковых лигандов явилась теоретической основой для
описания и предсказания электронного строения моно- и полиядерных
комплексов, их магнитных, оптических и спектроскопических
свойств.
— Каков вклад в работу Сибирской школы магнетохимии, которую,
очевидно, вы и представляете?
— Первые не только в Сибири, но и в СССР гетероспиновые
комплексы металлов с нитроксильными стабильными радикалами
синтезированы в ИНХ СО РАН В. Овчаренко (ныне чл.-корр. РАН) в
лаборатории профессора С. Ларионова. Здесь же были начаты и
всесторонние исследования их магнитных свойств — вначале до
азотных, а затем и до гелиевых температур. За двадцатилетний
период исследований удалось обнаружить большое число новых,
неизвестных ранее типов гетероспиновых систем, способных к
кооперативному, в том числе и ферро-, ферримагнитному и др.
упорядочениям, создать фундаментальные основы для
целенаправленного конструирования высокоразмерных систем. Было
обнаружено большое число магнитных явлений, характерных только
для молекулярных магнетиков. Многие из созданного семейства
необычных полиядерных комплексов были получены в виде
монокристаллов, представляющих собой легкие, оптически прозрачные
и устойчивые в обычных условиях диэлектрики. Впервые были
всесторонне изучены эффекты анизотропии в молекулярных ферри- и
ферромагнетиках. Наряду с экспериментальными исследованиями были
разработаны теоретические основы для анализа магнитных свойств
таких гетероспиновых соединений.
Хочется подчеркнуть, что в условиях недостаточного финансирования
и обновления экспериментальной базы мы смогли удержаться на
уровне зарубежных исследований в этой области и по некоторым
позициям даже опередить коллег. Поэтому представляемая «сибирская
часть» научных результатов всегда высоко оценивалась на различных
российских и международных конференциях.
В последние годы существенная часть работ в этом направлении
перенесена в МТЦ СО РАН (лаборатория чл.-корр. РАН В. Овчаренко),
где в настоящее время создана современная экспериментальная база
для продолжения и развития исследований.
Фото В. Новикова
стр. 6
|