НЕ ПОСТУПАЯСЬ ПРИНЦИПАМИ
Одному из аборигенов Сибирского отделения, создателей Института катализа СО РАН члену-корреспонденту РАН Роману Алексеевичу Буянову 21 февраля исполняется 80 лет.
Л. Юдина, «НВС»
Восемьдесят — возраст, без всякого сомнения, почтенный. И по всем законам бытия человек к этому времени должен ощущать груз годов своих. Но, как правило, в силу вступают другие законы, обусловленные характером, стечением жизненных обстоятельств и прочими «мелочами». Человек увлеченный, творческий, жизненные ориентиры которого очерчены довольно четко, обычно не отягощен ходом времени, дни для него пролетают стремительно, и как-то недосуг вести счет годам своим, заостряя внимание на их прибавлении. Значение имеют лишь дела, которые удалось свершить, идеи, что поддались осуществлению.
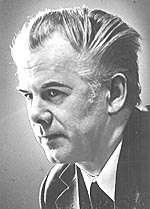 |
|
Роман Алексеевич приехал в новосибирский Академгородок в первые годы его возведения, в пору повсеместно царящего «академического» энтузиазма. Р. Буянов, прежде всего — человек дела, а дел здесь вершилось — хоть отбавляй. Он сразу и с головой окунулся в работу и заботы. И хотя было ученому чуть больше тридцати, имя его в определенных кругах хорошо знали. Роман Алексеевич имел солидный опыт ответственной работы, стал лауреатом Ленинской премии — самым молодым в СССР.
— Какую вашу работу, Роман Алексеевич, так высоко оценили?
— Начнем с того, что я был в числе первого выпуска закрытого элитного инженерного физико-химического факультета МХТИ им. Д.И. Менделеева, на котором преподавал и молодой профессор Г. К. Боресков. Нацелены мы, выпускники, как можно догадаться, были на атомную тематику. Дипломную работу я выполнял в знаменитом Институте физических проблем, участвуя в закрытом проекте по выделению дейтерия методом ректификации жидкого водорода — работе, имевшей государственное оборонное значение.
Замечу, что по тем временам проект считался совершеннейшей фантастикой, и никто, по существу, на него не замахивался. Была попытка у французов, но их опытная установка взорвалась. Мы, работая над проектом, постарались учесть этот печальный опыт.
Так случилось, что я оказался единственным специалистом первого выпуска, участвовавшим в проектировании объекта. Поэтому и был направлен на Чирчикский комбинат для руководства строительством и решения всех вопросов и проблем, связанных с ним.
Чтобы оценить масштабы построенного производства по выделению дейтерия, достаточно сказать, что на объекте ежечасно ожижалось и подвергалось ректификации в огромных колоннах до 30 тыс. кубометров водорода, предварительно очищенного от примесей кислорода и азота до содержания 10-9—10-10 доли по объему.
Главная проблема состояла в обеспечении такого режима работы, который бы исключал опасность взрыва. Ведь малейшие примеси кислорода в водороде накапливались в виде твердых кристаллов в жидком водороде, и эта смесь превращалась в бомбу.
— Опасность все же существовала?
— Конечно, никто на сто процентов не был застрахован. Но сотрудники в меня верили, говорили: «Если Буянов там — ничего не случится!»
К объекту проявлял большой интерес И. В. Курчатов, и мне выпала честь познакомиться с этим удивительным человеком. В общем, те годы — одни из самых счастливых в моей жизни.
— Потом как складывались обстоятельства?
— Руководил сооружением ряда других крупных промышленных объектов, в том числе, первого в Средней Азии завода сухого льда, крупной ТЭЦ, цеха крепкой азотной кислоты, где приходилось решать самые разнообразные вопросы — научные, проектные, инженерные, кадровые, организационные. И знаете, всегда было ощущение, что Родина доверила тебе большое дело, и мы испытывали настоящую гордость, что не подвели ее. Выражение «Раньше думай о Родине, а потом — о себе», которому сейчас зачастую придают иронический оттенок, мы воспринимали буквально.
После запуска в эксплуатацию всех моих объектов решил возвратиться из Узбекистана в Россию. Отказался от приглашения министра химической промышленности Л. Костандова перейти на работу в министерство с перспективой стать его заместителем. В 1958 году начал работать в Объединенном институте ядерных исследований в г. Дубне. Там я занимался разными проблемами, в том числе разработкой и промышленным освоением серийного водородно-гелиевого ожижителя, первого в стране, катализом при низких температурах, пытался вместе с другими создать первый в стране сверхпроводящий соленоид на основе сплава Nb3Sn.
За работы в области химической технологии в 1960-м году мне и присвоили Ленинскую премию.
— Георгий Константинович Боресков пригласил вас в 1961-м году сразу в заместители?
— В заместители по науке. И попросил одновременно быть главным инженером и заведующим лабораторией. Так что я был един в трех лицах. Полномочия у меня, как говорят, были высокие: руководил строительством института, организацией его инфраструктуры, всех служб. Решал и кадровые вопросы — лично принял где-то 450 сотрудников. Причем, подолгу беседовал с каждым из желающих работать на ниве науки.
Моими верными помощниками в этот период были старшие научные сотрудники В. А. Сазонов и К.И. Матвеев, которым я очень благодарен.
Неоценимую роль в том, что Институт катализа построили в нашем городке, сыграл Михаил Гаврилович Слинько. В пору решения судьбы института он работал в отделе химии ЦК КПСС. Затем, после защиты докторской диссертации, приехал в ИК СО АН СССР, был заместителем директора по науке. Это талантливый, увлеченный ученый, создавший новое направление в науке. Сейчас он живет в Москве, ему уже 93 года, но он активен, пишет статьи, делает доклады, по-прежнему предан нашим идеалам.
— Роман Алексеевич, вы очень долго ходили в заместителях директора?
— Тридцать пять лет! Наверное, дольше меня на этом посту никто не оставался.
— Не возникало желания подняться на ступеньку повыше?
— Отвечаю совершенно искренне — нет, не возникало. Мне не раз предлагали директорскую должность в других местах — в Красноярске, в Томске; звали в Алматы, в Донецк, в Подмосковье. Но я считаю, человек не должен стремиться к своему потолку. Не могу сказать, каким бы директором я был, но в замдиректорах, думаю, я сделал немало. Если ты только и думаешь о карьере, то уже не свободен, не можешь в полную меру отдаться творчеству. Ведь хорошим замдиректора очень непросто быть. Это своего рода призвание. Надо разбираться в разнообразных проблемах, быть и организатором, и психологом, и экономистом, человеком коммуникабельным, отзывчивым и т.д. и т.п. Какие-то качества заложены в человеке природой, другие приобретаются с годами.
— Что, считаете, прежде всего повлияло на приобретение необходимых качеств?
— Думаю, «Менделеевка». Помимо глубоких знаний институт воспитывал ответственность, патриотизм, готовность служить своей стране (деньги тогда не были для нас самым главным атрибутом). Жаль, что многое из тех годов утрачено. Сегодня у меня такое ощущение, что в России распадается связь времен и поколений. Я много об этом думал и пришел к выводу, что она состоит из любви к Отечеству. Эту любовь я пронес через все годы. И не умышленно ли в наше время так много пропаганды, которая как бы имеет цель размыть эту любовь. В конце-концов, только в усилиях исполнить должное человек познает себе цену.
— Существенный этап вашей жизни — МНТК «Катализатор»?
— МНТК — большой коллективный труд. Создавали организацию в пору, когда директором Института катализа был К. И. Замараев. Инициативному и очень активному Кириллу Ильичу сама идея Межотраслевого научно-технического комплекса, в котором бы сошлись воедино все завязанные на катализаторах проблемы, очень импонировала. И сразу скажу, прежде всего от этого выиграл наш институт как организатор и глава комплекса — мы получали под реализацию идеи определенные средства. Но я считал и считаю, хотя со мной многие не согласны, что МНТК все-таки не решил всех задач, которые оговаривались при организации. Трудно объединить сотни организаций, каждая из которых трудилась по собственному плану, скоординировать все действия и стараться извлечь пользу. Помню, мне поручили подготовить отчет о деятельности МНТК за пять лет. Я возглавил комиссию из ведущих ученых. Предстояло проанализировать итоги работы более полутора сотен участников за пять лет. На выездной сессии Совета по катализу и ГК СССР по науке мне пришлось сообщить, что не выполнено около половины того, что планировалось.
— Вы руководили Координационным центром стран СЭВ по проблеме «Разработка новых промышленных катализаторов». В чем заключалось ваше участие и что удалось сделать?
— Стояла проблема, каким образом объединить усилия всех стран СЭВ для того, чтобы создать новое поколение более эффективных катализаторов. Организовали координационный центр стран СЭВ и Совет уполномоченных, в который входили соответствующие представители от каждой страны. Организовал Центр Г. К. Боресков, но вскоре от этого отошел, и председателем стал я. Через некоторое время меня одновременно назначили и уполномоченным от Советского Союза. Раз в год, по очереди в каждой из стран мы собирались, составляли координационные планы. Заслушивали отчеты о том, что сделано, обсуждали, как действовать дальше. Были интересные предложения.
Что я по своей инициативе попытался сделать? Построить катализаторный завод стран — членов СЭВ в нашей стране. То есть, чтобы каждый работал на это предприятие и отлаживал промышленный выпуск, отвечал за свой катализатор, его качество и конкурентную способность.
Министерство дало добро, начали проектировать завод в Томске, сделали предпроектную проработку. Все закипело, закрутилось. А потом…
— Что — потом?
— Началась перестройка. Документация осталась на полке, Совет уполномоченных распался. В сухом остатке — мечты и предпроектные проработки.
— Роман Алексеевич, а каким из научных проблем вы уделяли наибольшее внимание?
— Научным основам приготовления катализаторов, изучению механизма их действия. Более шести лет возглавлял научную школу по этому направлению. Здесь огромное количество проблем, их хватит еще не на одно поколение. Я традиционно председатель всероссийской конференции по данной проблеме, в течение 25 лет регулярно собираемся через четыре года. Съезжается огромное число участников.
Еще одна актуальная проблема, которой занимаюсь — дезактивация катализаторов. Существует настоятельная необходимость продлить срок их действия. В нашей стране выпускается катализаторов до двухсот тысяч тонн в год. В них входит почти половина элементов периодической системы Менделеева, а катализаторы попросту выбрасываются на свалки (огромные деньги летят на ветер) и загрязняют при этом окружающую среду (утилизации почти не происходит). Двадцать пять лет я возглавляю конференции по актуальным проблемам дезактивации катализаторов.
Эти два направления до сих пор курирую в рамках страны.
Из ряда моих работ, нашедших применение в промышленности, хотел бы выделить еще одну: создание катализаторов и на их основе промышленного объекта по производству жидкого пара-водорода — ракетного топлива. Этот огромный объект — прекрасный пример высоких технологий. На нашем пара-водороде летал космический корабль «Буран».
— Мне показалось, что удачно у вас жизнь складывается, как говорится, без особо отягощающих обстоятельств…
— Да все бывало: невероятная напряженность, волнение: получится — не получится; отсутствие ожидаемого результата. Просто я никогда не зацикливался на негативных моментах и добивался поворота к лучшему. До сих пор не принял перестройку. Да, реформы были нужны, но разумные, направленные на благо народа, страны. У нас же все начало осуществляться по другому принципу — рубили с плеча, не представляя четко стратегию изменений. Мне кажется, реформы очень ловко подменили разрушением и разбазариванием. Но это мое личное мнение.
Чем я удовлетворен? Тем, что был полезен и совесть у меня чиста. Я никогда нигде не «хапал», ничем не злоупотреблял. Был влюблен в работу и старался отдавать ей всего себя.
— Это дорогого стоит! Как удается поддерживать такой боевой дух, прекрасную форму, быть оптимистом?
— Эти качества прежде всего воспитала мама. Она была чудной женщиной — мудрой, доброй, все понимающей. Ну и, конечно, всегда поддерживала семья, дарят радость дети, внуки.
— Роман Алексеевич, удачных вам многих-многих лет! Все бы так держались, восьмидесятилетние!
Фото В. Новикова
стр. 9
|