СИБИРСКАЯ ОДИССЕЯ
И. А. ГОНЧАРОВА
Образ Сибири в российском национальном сознании с течением времени, чем далее — тем более, воспринимается не просто как предельно большое географическое пространство на востоке страны, а как понятие историософское, включающее множество смыслов антропологического и феноменологического порядка. Обогащению этого понятия во многом способствовала русская литература, отдавшая художественному освоению сибирской темы щедрую дань, одним из ярких проявлений которой стали очерковые произведения двух ее классиков — Гончарова и Чехова.
Л.П. Якимова, главный научный сотрудник
Института филологии СО РАН, д. филол. наук.
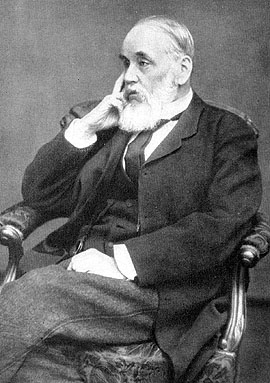 |
|
В завершающих главах книги о кругосветном плавании «Фрегат Паллада», посвященных возвращению домой через Сибирь, Гончаров многозначительно отметит, что «это не поездка, не путешествие — это особая жизнь». Этот рожденный именно сибирским опытом тезис об «особой жизни» восходит к самим истокам художественной философии Гончарова в смысле общего понимания жизни как величайшего таинства. И с чувством глубочайшего удовлетворения писатель отмечает: «Несмотря, однако ж, на продолжительность зимы, на лютость стужи, как все шевелится здесь, в краю! Я теперь живой, заезжий свидетель того химически-исторического процесса, в котором пустыни превращаются в жилые места, дикари возводятся в чин человека, религия и цивилизация борются с дикостью и вызывают к жизни спящие силы... Кто же, спросят, этот титан, который ворочает и сушей, и водой? Кто меняет и почву и климат? — Титанов много, целый легион, и все тут замешаны, в этой лаборатории: дворяне, духовные, купцы, поселяне — все призваны к труду и работают неутомимо. И когда совсем готовый, населенный и просвещенный край, некогда темный, неизвестный, предстанет перед изумленным человечеством, требуя себе имени и прав, пусть тогда допрашивается история о тех, кто воздвиг это здание, и так же не допытается, как не допыталась, кто поставил пирамиды в пустыне...»
(Гончаров И. А. Собр. соч. в шести томах, т. 3, с. 310-311. Далее сноски в тексте статьи с указанием тома и страниц).
Соблазн цитировать такого рода текст и далее велик, ибо веет от него вещим духом жизнеутверждающей прогностики. Поражает в нем сила всечеловеческой мысли, ее прописанности в мировом «химически-историческом процессе»: освоение Сибири на исторических весах значит не меньше, чем подвиг тех, кто «поставил пирамиды в пустыне».
Возвращаться из кругосветного путешествия можно было уже проторенным, а значит, более легким путем — через Юго-Восточную Азию, но путь домой был избран Гончаровым через Сибирь, что придало житейски-прагматическому вопросу выбора дороги отнюдь не столько личностно-биографический характер, сколько возвысившийся его до символического значения выбора национальной судьбы. Увидевший — благодаря кругосветному путешествию — всю мировую панораму в роковую минуту разгара колониальных страстей, Гончаров не преуменьшил значение Сибири для будущего России. От портового местечка Аян, «скромного, маленького уголка России», где высадилась группа бывших «плавателей» с фрегата «Паллада» и где, кстати сказать, уже успела обосноваться американская фактория, лежал более чем десятитысячеверстный путь до Санкт-Петербурга, на основе которого Гончаров создаст текст, послужащий прецедентом для последующих многочисленных произведений, посвященных описанию посещений Сибири — Чеховым, Успенским, Короленко, Елпатьевским, Дорошенко и др. Постепенно в русской литературе сложится понятие «сибирского текста», отмеченного столь же неповторимо-выразительными чертами, что и петербургский и московский тексты, а в случае Гончарова постоянно возвращающего к общечеловеческой памяти, теперь уже в архетипическом образе Одиссея: «... Какая огромная Итака и каково нашим Улиссам добираться до своих Пенелоп! Десять тысяч верст: чего-чего на них нет! Тут целые океаны снегов, болот, сухих пучин и стремнин, свои сорокоградусные тропики, вечная зелень сосен, дикари всех родов, звери, начиная от черных и белых медведей до клопов и блох включительно, снежные ураганы, вместо качки — тряска, вместо морской скуки — сухопутная, все климаты и все времена года, как и в кругосветном плавании...» (3, 273).
Этот кругоземный контекст в зримой и незримой форме проступает в повествовании о Сибири, предстает как подтекстово-невидимая канва ее образа. И не удивительно: на сибирскую землю ступил писатель, насквозь пропитанный незабываемыми впечатлениями «другой жизни», щедро наделенной всеми, какие только может представить человеческое воображение, природными благами. Вот Ява: «природа — нежная артистка здесь. Много любви потратила она на этот, может быть, самый роскошный уголок мира. Местами даже казалось слишком убрано, слишком сладко...» (2, 212) Вот Ликейские острова: «Да, это идиллия, брошенная среди бесконечных вод Тихого океана. Слушайте теперь сказку ... деревья колоссальные, а между ними чуть-чуть журчат серебряные нити ручейков да приятно шумят театральные каскады... Что это? Где мы? Среди древних пастушеских народов, в золотом веке? Ужели Феокрит в самом деле прав?» (2, 158) Невольно приходят на память библейские имена, всплывают образы Рая и Золотого века, буколически-пасторальные картины старых мастеров поэтического слова и кисти.
Естественно предположить, что оказавшись в необъятных пространствах вечной мерзлоты, писатель не может отрешиться от впечатлений о легкости дарового существования в странах вечного лета: «Живут же люди в этих климатах, и как дешево! Одежда — кусок полотна или бумажной материи около поясницы — и только; все остальное наруже; ни сапог, ни рубашек... Пища — горсть риса, десерт — ананас, стоящий грош, а если нет гроша, а затем и ананаса, то первый выглянувший из-за чужого забора и ничего не стоящий банан... Жить, то есть спать, везде можно; где ни лягте — тепло и сухо»
(2, 226). Но и у такого благостного жизнеустройства есть свои негативные стороны, и как трезво мыслящий аналитик, писатель четко осознает его антропологические издержки: жизнь на всем готовом не стимулирует стремление к труду, предрасполагает к лености, от природной неги расслабляется тело и цепенеет дух, отчего и становятся экзотические земли легкой добычей цивилизованных стран.
Хваткие щупальца колонизаторов успели прочно зацепиться за Африку, всю Юго-Восточную Азию, простерлись до Японии, жадно тянутся к Сибири. Куда бы ни ступила нога плавателей с «Паллады», всюду обнаруживается хозяйское присутствие голландцев, испанцев, французов, обязательно и непременно — англичан, а вот уж и «люди Соединенных штатов», как именуют их японцы, пред приходом русских на Ликейские острова оставили здесь двух своих солдат и грамоту, властительно подтверждающую что местные народы взяты под их покровительство. Застав земную историю на пороге глобализации, Гончаров затронул многие аспекты мировой колониальной политики, можно сказать, положил начало ее типологии, отметив неповторимые черты поведения колонизаторов в Африке, Филиппинах, Китае, в том числе выявив и многие формы насильственного цивилизаторства, описав использование рабского труда коренного населения на рудниках, строительстве дорог, сигарной и канатной фабриках в Маниле и т.д., но речь пойдет не об этом, а о том видении сибирской действительности, что могло открыться писателю в ярком свете кругосветного путешествия.
В отличие от той же Японии с надвинутым на нее колпаком национальной непроницаемости Сибирь приятно поразила писателя тем, что была открыта для культурно-экономических преобразований, готова к восприятию цивилизации. Реальная практика ее освоения исключала агрессию, исходила из нравственных начал гуманизма и миролюбия. Русские шли сюда с намерением не покорять, искоренять, завоевывать, а устанавливать живые, плодотворные связи с обитающими здесь народами, и те не проявляли вражды к русским «поселянам», в отличие, например, от американских индейцев, ритуально снимавших скальпы с белых завоевателей, или африканских кафров, жестокое сопротивление которых белым стало сюжетом многих произведений западной литературы.
Благоприятное впечатление оставляет у автора уже первая встреча с Сибирью — Аян с его двумястами жителей, состоящих из командированных сюда чиновников, казаков и, наконец, якутов: «Чиновники помещаются в домах, казаки в палатках, а якуты в юртах. Казаки исправляют здесь военную службу, а якуты статскую. Первые содержат караул и смотрят за благочинием ..., а вторые занимаются перевозкой пассажиров и клади, летом на лошадях, а зимой на собаках. Якуты все оседлые и христиане, все одеты чисто и, сообразно климату, хорошо». Верный своей привычке к точности этнографических деталей в описании жилища, одежды, еды человека другой национальности, Гончаров и в данном случае не отступает от авторского правила: «И мужчины и женщины носят фризовые капоты, а зимой — олений или нерпичий мех, вывороченный наизнанку. От русских у них есть всегда работа, следовательно, они сыты, и притом, я видел, с ними обращаются ласково» (3, 273).
От общения с основным населением края у автора остались самые благодатные впечатления: «Якуты ... тихий и вежливый народ: съезжают с холмов, с дороги, чтоб только раскланяться с проезжими». Они прекрасные проводники: «Подъезжаете ли вы к глубокому и вязкому болоту, якут соскакивает с лошади, уходит выше колена в грязь и ведет вашу лошадь — где суше, едете ли лесом, он — впереди, устраняет от вас сучья; при подъеме на крутую гору опоясывает вас кушаком и помогает идти; где очень дурно, глубоко, скользко — он останавливается. „Худо тут, — говорит он, — пешкьюем надо“, вынимает нож, срезывает палку и подает вам, не зная еще, дадите ли вы ему на водку, или нет» (3, 313).
Целых четыре месяца потребовалось российским Улиссам, чтобы преодолеть 10 000 верст, отделяющих Аян в Охотском море до Петербурга; в дороге проходили «дни, недели, почти месяцы» с непредвиденной остановкой, например, в Якутске, в ожидании, когда встанет Лена и откроется зимний путь. Описание трудностей преодоления скованного морозом пространства через горы, болота, тайгу — верхом на лошадях, в санях, на оленьих и собачьих нартах, на плотах, в лодке, а где и «пешкьюем», разнообразие путевых встреч и богатство впечатлений могло бы составить сибирскую Одиссею русского писателя, если б, по его признанию, представилось возможным Улиссу испытать хотя бы некоторые из превратностей сибирского путешествия, выпавших на долю россиян.
Первое представление о том, какие опасности подстерегают путников в необжитом краю, они получили при перевале через «грозный Джукджур», «гору, как стену прямую, с обледеневшей снежной глыбой, будто вставленным в перстне алмазом, на самой крутизне... Камни заговорили под ногами вереницей, зигзагами, потянулся караван по тропинке. Две вьючных лошади перевернулись через голову, одна с моими чемоданами. Ее бросили на горе и пошли дальше...
Я шел с двумя якутами, один вел меня на кушаке, другой поддерживал сзади. Я садился раз семь отдыхать, выбирая для дивана каменья помшистее, иногда клал голову на плечо якута... У одного якута, который вел меня, пошла из носа кровь...» (3, 281).
«Вчера мы пробыли одиннадцать часов в седлах, а с остановками двенадцать с половиною... Вдруг мы въехали в заросшие лесом болота. Лес част, как волосы на голове, болота топки, лошади вязли по брюхо и не знали, что делать, а мы, всадники, еще меньше... Что Джукджур, что каменная дорога, что горные речки в сравнении с болотами!» (3, 283). Но, несмотря на такого рода дорожные картины, резко контрастирующие с ранее увиденными пасторалями человеческого бытия, и несмотря на то, что повествование ведет, хотя и писатель, но по социальному статусу высокого ранга петербургский чиновник, можно сказать, барин, пустившийся в опасный путь с «человеком», сиречь слугой, каким является повар Тимофей, общий колорит сибирских глав вовсе не унылый, не мрачный, не тягостный. Эмоционально-поэтический настрой его определяют не жалобы на непереносимость дороги, не тоска о покое и комфорте, а нескрываемое восхищение физической и духовной стойкостью живущих здесь людей, преклонение перед их повседневным мужеством и силой воли в преодолении экстремальных ситуаций. Один раз случайно встретившийся, но навсегда оставшийся в памяти человек как типичный пример поведения в неповторимо своеобразных условиях местного бытия — излюбленный персонаж сибирских глав очерковой книги Гончарова, в результате чего необжитые пространства края не создают впечатление пустоты и безлюдья. Писатель отдает должную дань благодарности терпеливо-снисходительной внимательности якутских проводников, с уважительным удивлением отзывается о беспримерно самоотверженной деятельности русских священников-миссионеров, которые «постоянно разъезжают по якутам, тунгусам и другим племенам: к одним, крещеным, ездят для треб, к другим для обращения», по дороге, бывает, попадая в пургу, что «стоит всяких морских бурь».
Писатель не упускает возможности запечатлеть множество мимолетных встреч с людьми, чья жизнь отмечена бескорыстным служением Сибири: таков алданский исправник К. П. Атласов, потомок известного сибирского землепроходца; таков отставной матрос Сорокин, по доброй воле приучающий кочевых тунгусов к земледельческому труду: «Никто о Сорокине не кричит, хотя все его знают далеко кругом и все находят, что он делает только, «как надо» (3, 316).
«Химически-исторический процесс» освоения Сибири неостановим, вершится он и неоценимым вкладом тех, кому суждено остаться неизвестными. На высокой ноте душевного напряжения звучит вопрос: «А кто знает имена многих и многих титулярных и надворных советников, коллежских асессоров, поручиков и майоров, которые каждый год ездят в непроходимые пустыни, к берегам Ледовитого моря, спят при 40° мороза на снегу — и все это по казенной надобности? Портретов их нет, книг о них не пишется...» (3, 321) Но и независимо от каких-либо иллюстративных усилий национально-историческая истина пробивается к свету и в книге Гончарова находит выражение в словах, и графически, и семантически выделенных самим автором: «В Сибири нет места, где бы не были русские» (3, 319).
Писатель с нескрываемым удовлетворением отмечает малейшие следы плодотворного освоения-обживания сурового края — зачатки земледелия, дорожного благоустройства, развития торговли, взаимопроникновения культур, складывающихся национальных отношений русских с якутами, тунгусами, чукчами, трудной жизни поселенцев, самоотверженного труда миссионеров, кстати, озабоченных созданием и письменности сибирских народов, и мало кем признаваемой работы чиновников по казенной надобности, словом, участия всех сословий русского общества, что делает благоустройство Сибири общенациональным делом, как бы сказали сейчас, национальной идеей.
Долгая и трудная дорога предрасполагает к последовательно обстоятельному повествованию, но часто плавное его движение взрывается лирическими отступлениями, эмоциональное напряжение которых выдает обилие восклицательных и вопросительных знаков, когда зримым становится нетерпеливое намерение автора представить желаемое будущее как сбывшуюся реальность: «От Амги шесть станций до Якутска, но там уже колесная езда, даже есть на станциях и тарантасы. Нет сомнения, что будет езда и дальше по аянскому тракту. Всё год от года улучшается, расставлены версты; назначено строить станционные домы. И теперь, посмотрите, какие горы срыты, какие непроходимые болота сделаны проходимыми! Сколько трудов, терпения, внимания — на таких пространствах, куда никто почти не ездит, где никто почти не живет!»
(3, 295).
При чтении очерковой книги «Фрегат Паллада» невольно возникают аналогии с сибирским путешествием А. П. Чехова, его дорожными письмами, очерками «Из Сибири», «Островом Сахалин», но нельзя не заметить и разницу в повествовательном колорите, эмоционально-психологической тональности их произведений. Скорее всего сказалось воздействие путевого вектора: «конно-пеший» путь Чехова лежал в направлении к неизвестности, Гончаров возвращался домой, и радость встречи с родиной приглушала тяжесть дорожных злоключений: впереди ждала родная Итака, Петербург! Не могло не сказаться и различие мотивов их сибирского странствия: хотя выбор дороги после плавания на «Палладе» через Сибирь был сделан Гончаровым добровольно, не мог он не ощущать своей миссии человека, едущего по казенной надобности и в этом смысле не мог не отметить положительных сторон государственной политики в далеком крае; Чехов же ехал в Сибирь как вольный художник, исключительно по зову сердца, специально подчеркивая, что никем не командирован, а едет «на свой счет». И есть еще вопрос, который мучит чеховедов до сих пор: почему после Сахалина, возвращаясь морским путем через Юго-Восточную Азию и пересекая многие из тех географических объектов, которые столь живописно запечатлел Гончаров — Нагасаки, Шанхай, Манилу, Сингапур, Чехов, если не считать рассказ «Гусев», пренебрег их описанием?.. Но как бы ни были существенны различия между сибирскими текстами двух русских классиков, роднит их нечто общее — отношение к Сибири не как, хоть и важному, но просто географическому объекту, а восприятие ее через призму феноменологии духа, в фокусе возможностей Сибирью выдержать экзамен на человека, личностное самостоянье. У Чехова это убеждение приобретает даже форму категорического императива: «...кто не был в Сибири, тот не может быть истинным талантом» (Соч., т. 7, с. 504).
«Фрегат Паллада» — удивительное произведение. И через 150 лет после своего создания оно все так же остро и живо откликается на проблемы современной жизни в ее всемирном охвате. Страсть к переделу земли не утихла, колониальная политика стала лишь хитрее, лукавее, изощреннее, маскируя захватнические планы либеральным кодексом защиты прав человека. Время наступило такое, что Сибирь в этих планах выдвинулась на передний край. По заявлению бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, — «величайшая несправедливость, когда такими землями, как Сибирь, владеет одна Россия». Есть над чем задуматься и лишний раз убедиться в том, как полезно читать такие книги, как «Фрегат Паллада», не только по случаю очередного юбилея писателя.
стр. 8-9
|